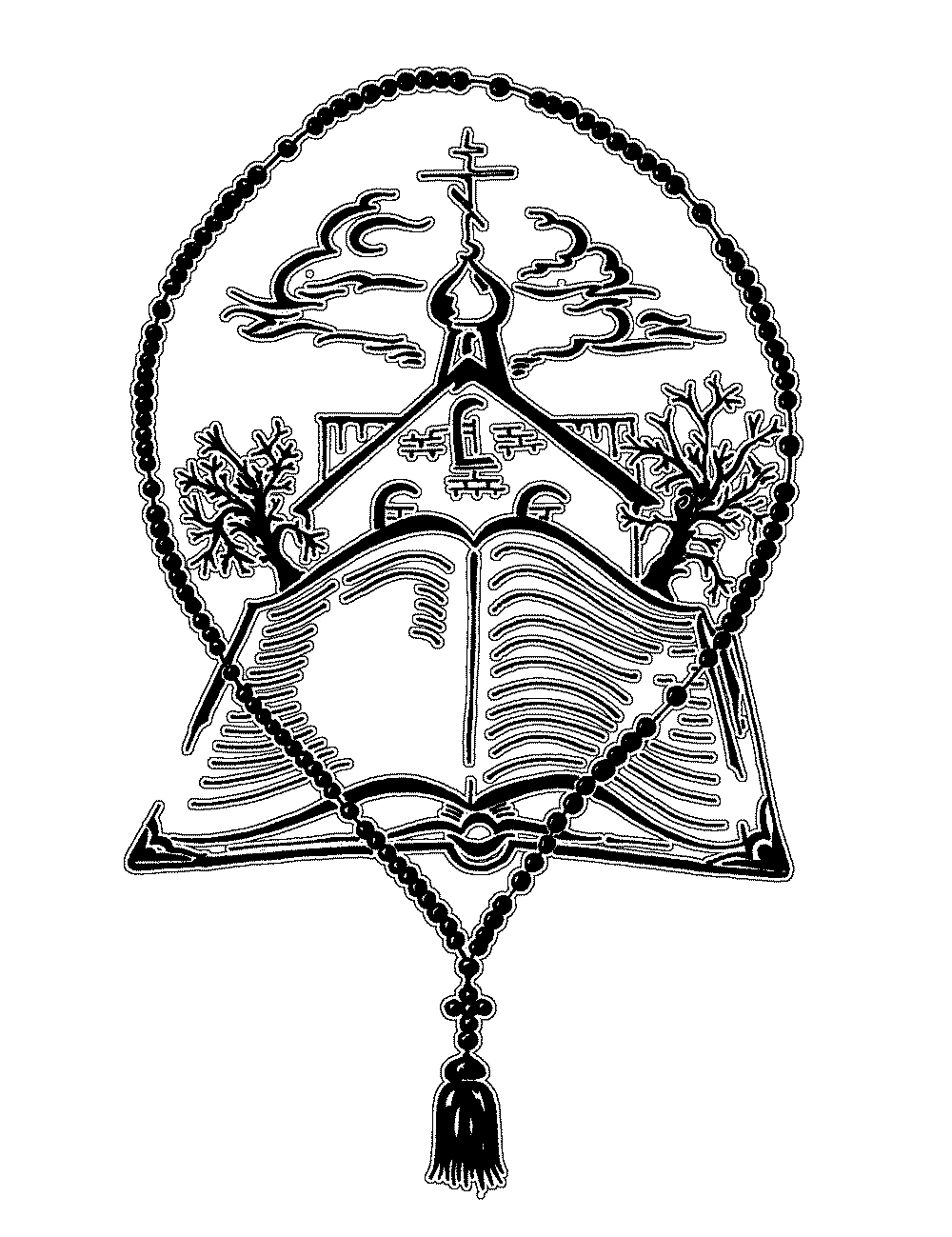Маргарита
Церковь стояла почти на вершине одного из Стрелецких холмов, «почти» – потому что она была чуть смещена с самой вершины, и от этого казалось, что она пытается сбежать с холма и спрятаться где-нибудь в низине. И это очень подходило к прилагательному «катакомбная» и к самому этому времени, в котором люди как будто без устали придумывали новые игры и играли в них, то в одну, то в другую, на ходу придумывая и оттачивая правила, создавая исключения и наказывая за них. Никто не говорил об этом, но было обидно, ведь то, что сейчас воспринималось как игра, было на самом деле выстрадано, отвоёвано и омыто кровью, а сейчас кровь заменили кетчупом Heintz, вино – подкрашенным спиртом, ладан – бэлловским табаком «Три монашки».
Церковь была катакомбной, но вершина холма не пускала её в свою тень. Или это она вцепилась в холм всеми псевдоподиями своего фундамента.
Маленькая и сухонькая старушка в апостольнике, скуфейке и кроссовках Nike вышла из ярко-зелёной калибки и подошла к нам. Белые, ухоженные кроссовки были чужими под чёрными крыльями монашеской мантии, они, в этой своей чуждости, казались, самое малое, сандалиями Меркурия, и, вполне возможно, были ими, ибо мне было видно, что если бы не летучая обувь, хозяйка её вросла бы в землю – настолько она была стара и немощна. Обувь же, как бы устремлённая во вчерашний день, молодой и сильный, влекла её вперёд и не давала пустить корни при каждом трудном шаге.
Воздух сгустился от её взгляда, отяжелел запахом пломбира и земляничного мыла, и игра в салочки, перемешанная со стихами псалмов, обвязанных кириллицей, влилась в меня с этим взглядом, истекавшим любовью.
– Как зовут вас, батюшка? – спросила она, звеня глазами как бубенцами.
Я ответил.
– А по отчеству? – вновь спросила она, и взгляд её заострился и щекотнул меня под кадыком. – Отца-то нам всегда помнить надо.
– Я помню, матушка. – сказал я и назвал своё отчество.
– Вот теперь и я помнить буду. – улыбнулась она, и день побежал дальше, убегая от хозяйки, а в том, что это она была его хозяйкой, я уже был уверен.
– Это наша игуменья, Маргарита. – сказал мне священник и вслед за этим как будто застегнул «молнию», закрыв свою душу наглухо.
Я подумал о странности этого поступка, затем оправдал его словом «катакомбы», будто ввёл пароль в систему, но она отчего-то не торопилась впускать меня внутрь.
Начиналась новая история, новая глава, её нужно было прочесть псалмодией, пропеть столовым распевом, но перед этим её нужно было написать. Как много всего в ней должно было сосуществовать! Как много должно было случиться! Но пока что на её страницах не было ничего, и я только примеривался к тому, чтобы начать выписывать буквицу.
А слова, шероховатые для современного языка слова, пела игуменья Маргарита. О, у неё был дивный голос, она даже дышала как пела, а пела как молилась, а молилась как любила, и всё – без остатка, без оглядки, вполне.
Талантливый скрипач как-то говорил мне, что голос скрипки очень похож на голос женщины, так вот, голос игуменьи был скрипкой Страдивари, с той только разницей, что мастер, сотворивший эту скрипку, говорил не по-итальянски. Он говорил на всех языках, даже на тех, которых люди никогда не слышали, и не могли слышать, ибо человеческое ухо вместить их не способно.
Но, как это ни странно, голос был последним из её талантов, явным, сияющим, но никак не первым. Все же остальные таланты скрывались под спудом, прятались под апостольником, едва выглядывали из складок мантии и притворялись шутовскими кроссовками Nike.
А голос – голос родился прежде своей хозяйки, вместе со слухом. Он вылетел из утробы и тут же устремился к иконам, висевшим в красном углу. Лёгкие улыбки, струившиеся со святых ликов, сплелись с этим голосом, и сказал Он, что это хорошо, и благословил её. И это благословение стало для неё мелодией, тем самым шестым гласом, которым поют о упокоении души и о воскресении Спасителя, на который она всю жизнь нанизывала ноты своих цветных дней, укрытых чёрной монашеской одеждой.
Бог часто вместе с благословением дарит и беды. Говорят, так Он отмечает тех, кого любит. Очевидно, игуменью Маргариту Он любил особенно, ибо жизнь её была раскрашена этими самыми бедами, как страничка в тетради для рисования, попавшая в руки маленькому ребёнку вместе с коробкой цветных карандашей.
В молодости, будучи ещё послушницей, она чуть было не замёрзла, в течение пятнадцати часов скрываясь на тридцатиградусном морозе от агентов НКВД. Промёрзшая поленица в дровяном сарае стала для неё ещё одним материнскими лоном, благословение Божие укрыло пуховым одеялом, молитва согрела и дала силы. С тех пор голос её стал по-настоящему зимним, он чуть хрипловато звенел и разбрасывал снежинки, он был по-рождественски праздничным и холодным. Холод придавал ему грусти, ведь любовь никогда не обходится без неё, особенно любовь к Богу.
Но, замерзая от её голоса, люди согревались её глазами. Глаза игуменьи не старели вместе с ней, и взгляд её, застрявший в раннем детстве, и к старости оставался таким же чистым и летним, солнечным и добрым, таким, который бывает у маленьких девочек, свято верящих в то, что мир – это Бог, и он их любит. И поэтому они тоже любят всех.
Она и любила. Её любовь цветочным ковром покрывала те пути, по которым вёл её Бог, и люди, которых она встречала, вдыхали этот аромат, не понимая его, но упиваясь им, наслаждаясь лучами солнца в серый, пасмурный день, и слыша музыку, которая её всегда сопровождала, ибо она и сама была музыкой.
Те, кому посчастливилось встретить её, были счастливыми людьми, рубашки, в которых они родились, росли вместе с ними и были крепче кольчуг и легче воздуха. И одним из таких счастливцев стал я. И меня она одела в такую же рубашку, ставшую поистине крестильной, ведь если бы не игуменья…
Как бы то ни было, именно она благословила меня на священство, и я принял это, как должное, после того, как она показала мне старую фотографию, на которой я с удивлением узнал того самого священника, которому когда-то исповедовался во сне. В тот момент я вдруг всем своим существом почувствовал ту связь, которая пронизывает мир, соединяя горнее с дольним, делая невозможной саму мысль о том, чтобы устраниться и жить только своими проблемами, ковыряясь только в своих, постоянно растущих, морщинках и ни о чём ином не заботясь нимало.
– И-и-и, батюшка… – говорила она мне, и голос её прохладным ручейком перекатывался по камешкам детских интонаций, – Господь-то, Сердцеведец, Он всех нас видит, и для каждого у Него приготовлено утешение велие. Нам-то с вами только и нужно, что принимать с благостью и смирением, что Он нам судил. И самим не судить никого, не примеривать на себя одежды Божьи. А то ведь Господь долго терпит, да больно наказывает.
Многим, приходившим на службы в нашу церквушку, она приходилась крёстной матерью, но и ко всем остальным относилась так же, по-матерински, согревая любовью, воспитывая терпением и смирением, молчаливо проповедуя своими добрыми делами…
Когда её не стало, как ни странно, мы не осиротели. Наверное, потому, что помним её. А она, там, у Бога, помнит обо всех нас. Помнит и молится. Ведь у Бога все живы…
Алексей Парло